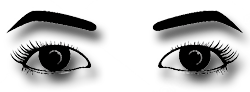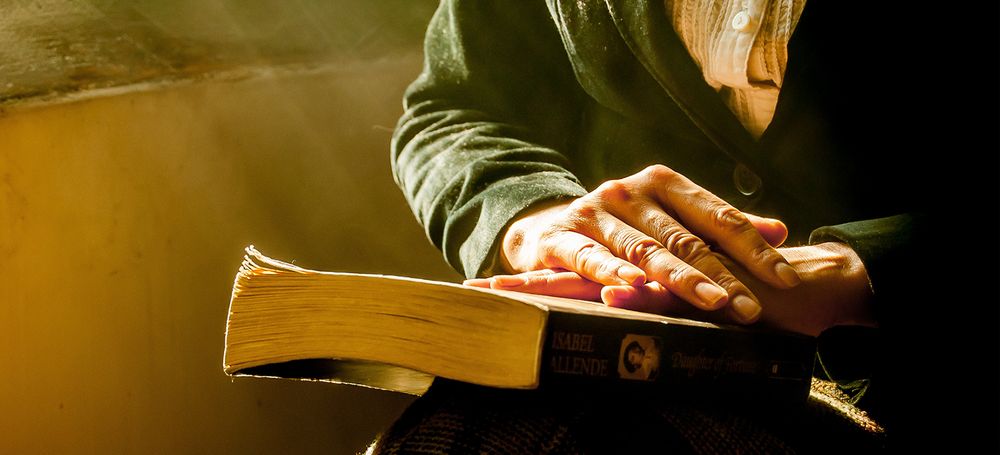Претворенный в интерьере мир культуры уже не частной, а общественной претерпевает в искусстве XIX века примерно ту же эволюцию.
Так, в пространстве «Интерьера библиотеки Академии художеств в Петербурге» (1860), написанного К. Н. Зиминым, царит еще деловая объективность, даже известного рода протокольность восприятия, а выбор строго центрально-перспективной точки зрения живо напоминает о как бы расчерченных по линейке ранних интерьерах воробьевского круга, лишенных здесь, однако же, их романтической патетики.
Но уже не только взгляду, а в большей степени настроению, эмоциям зрителя открывается пространство «Интерьера картинной галереи В. А. Кокорева» (работы А. Н. Гребнева, 1864). Благодаря выразительным эффектам светотени, предметно-колористическим контрастам белизны мрамора и позолоты рам здесь создается впечатление «храма Искусства».
К. Н. Зимин Интерьер библиотеки Академии художеств в Петербурге. 1860 Холст, масло Государственный Исторический музей. Москва
Сопоставление трех церковных интерьеров, наследующих друг друга лишь чисто тематически, дает представление о духовно-психологической, даже в какой-то мере идейно-содержательной трансформации церковного пространства в живописи. Акварель работы Н. И. Тихобразова, изображающая поэта П. А. Вяземского, молящегося в Казанском соборе (2-я четверть XIX века), всецело пропитана духом интимного романтизма, знакомого нам по любительским комнатным жанрам той поры. Молитва, словно символизирующая переломные для поэта годы, когда он скорбел о «греховности» своих юношеских вольнолюбивых помыслов, свершается в тишине и безлюдье, придающих большому городскому собору подобие скромной сельской церкви.
C. М. Шухвостов Обедня в московском Благовещенском соборе. 1857 Холст, масло Государственная Третьяковская галереяБолее бесстрастно, без явного религиозного чувства изображен интерьер в «Обедне в московском Благовещенском соборе» кисти С. М. Шухвостова (1857). Здесь господствует манера «перспективного письма»; краски древних икон, в те еще годы скрытые слоями поновлений, дополнительно приглушаются общим коричневатым «музейным» колоритом. Статика, устоявшийся покой, даже несколько сонная инертность предопределяют пространственный строй картины.